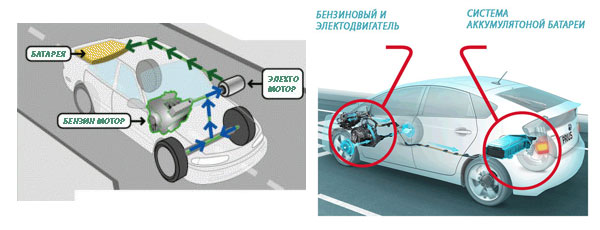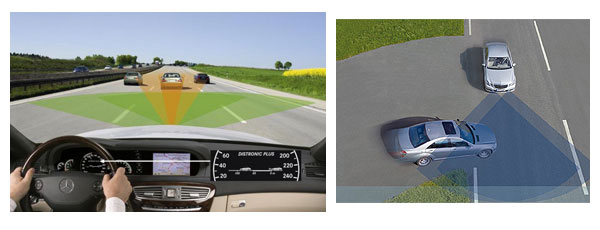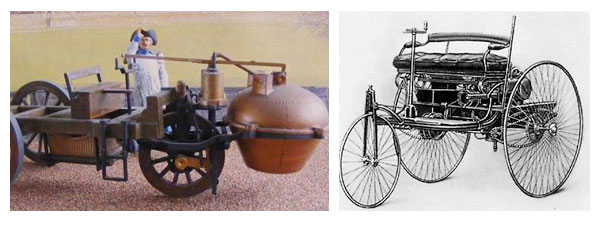Тема дороги в творчестве Н.В.Гоголя. | Автор топика: Alexandra
В поэме "Мертвые души" все построено на теме пути.
"Так говорит Господь: вот Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти" (Иерем.
Alexandra (Honoka) Отрывок из книги Юрия Манна «Постигая Гоголя». М., 2005.
Образ дороги возникает с первых строк поэмы; можно сказать, он стоит у ее начала. «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка...» и т.д. Образом дороги поэма и завершается; дорога — буквально одно из последних слов текста: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? .. Летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают дорогудругие народы и государства».
Но какое огромное различие между первым и последним образами дороги! В начале поэмы это дорога одного человека, определенного персонажа — Павла Ивановича Чичикова. В конце — это дорога государства, России, и даже больше, дорога всего человечества, на которой Россия обгоняет «другие народы».
В начале поэмы — это вполне конкретная дорога, по которой тащится вполне конкретная бричка, с хозяином и двумя его крепостными: кучером Селифаном и лакеем Петрушкой, запряженная лошадьми, которых мы также представляем себе вполне конкретно: и коренного гнедого, и обоих пристяжных коней, чубарого и каурого, по прозвищу Заседатель. В конце же поэмы представить себе дорогу конкретно довольно трудно: это образ метафорический, иносказательный, олицетворяющий постепенный ход всей человеческой истории.
Эти два значения, как две крайние вехи. Между ними располагаются множество других значений - и прямых и метафорических, образуя сложный и единый гоголевский образ дороги.
Переход одного значения в другое — конкретного в метафорическое – чаще всего происходит незаметно. Вот отец Чичикова везет мальчика в город; пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем Сороки, день-другой бредет по российским весям, въезжает в городскую улицу... Отец, определив мальчика в городское училище, «на другой же день выбрался в дорогу»— домой. Чичиков начинает свою самостоятельную жизнь. «...При всем том трудна была его дорога», — замечает повествователь. Одно значение образа, вполне конкретное, «вещественное», незаметно сменяется другим, метафорическим (дорога как жизненный путь).
Но порою такая смена происходит подчеркнуто резко, неожиданно. Встречаются и более сложные случаи, когда смена различных образов-значений происходит то постепенно, то резко, внезапно.
Чичиков уезжает из города NN. «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином... пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст, городишки, выстроенные живьем...» и т.д. Потом следует знаменитое обращение автора к Руси: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...»
Alexandra (Honoka) Переход от конкретного к общему по-прежнему еще плавный, почти незаметный. Дорога, по которой едет Чичиков, бесконечно удлиняясь, рождает мысль о всей Руси. Тут даже не скажешь, что один конкретный образ переходит в другой, метафорический. Просто перед нами увеличивается масштаб: пространство, которое пересекает тройка Чичикова, бесконечно расширяясь, переходит в пространство всей страны, и это дает повод для вдохновенного монолога автора о Руси.
Потом этот монолог в свою очередь перебивается другим планом. Чтобы вы почувствовали характер перебива, напомню окончание монолога и те строки, которые в него вклиниваются, его перебивают.
«...И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились и мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!
- Держи, держи, дурак! - кричал Чичиков Селифану.
- Вот я тебя палашом! - кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. - Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! - И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.
Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься к углу! »
Известный русский ученый, теоретик литературы А. Потебня находил это место «гениальным». Потебню поразило, «как неожиданно обрывает занесшуюся мысль холодная действительность»; поразила та резкость, «с которой этим выставлена противоположность вдохновенной мечты и отрезвляющей яви».
И действительно: резкость перехода доведена Гоголем до высшей точки. Нет никаких фраз, подготавливающих переход, нет пояснений рассказчика, скажем, пояснений такого рода: «Но возвратимся к нашему герою...» Или: «А в это время с нашим героем происходило то-то и то-то». Просто один план «вдвинут» в другой: во вдохновенную речь поэта врывается грубая брань Чичикова и встретившегося ему фельдъегеря, - и мы, словно упав с неба на землю, видим перед собою не сказочно-незнакомое пространство России, а конкретную дорогу, ту, по которой едет тройка Чичикова...
Но затем, также неожиданно, эта картина уступает место другой: словно и Чичиков, и его бричка, и скакавший навстречу фельдъегерь были всего лишь мимолетным видением.
И уже не Чичиков восхищается дорогой, не он покрепче закутывается в дорожную шинель, тесней и уютней прижимается в угол кареты. Не он дремлет, прижавши к углу своего соседа (Чичиков ведь, мы помним, находился в карете один: Петрушка с Селифаном сидели на козлах). Не Чичиков вдохновенно любуется наступившей ночью. «А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! »
Alexandra (Honoka) Кто же этот персонаж? Похоже, тот самый, который произносил глубоко-вдохновенную речь о Руси, словом, не кто другой, как автор. Но вот что интересно: сменив персонажей, сменив тон рассказа - прозаический, с просторечными репликами, на вдохновенный, возвышенно- поэтический, — Гоголь не изменил на этот раз характер центрального образа - образа дороги. Образ дороги не стал метафорическим - перед нами одна из бесчисленных дорог российских просторов, подобная той конкретной дороге, по которой мчится бричка Чичикова.
Смена прямых и метафорических образов дороги обогащает смысл поэмы. Имеет значение и двоякий характер этой смены – постепенный, «подготовленный», и резкий, внезапный. Постепенность перехода конкретного образа в метафорический напоминает нам о том, что вполне определенные картины и персонажи поэмы несут в себе обобщающее значение: путь Чичикова оказывается жизненной дорогой не одного, а многих людей; обыкновенные российские большаки, веси, города складываются в колоссальный и чудесный облик родины.
Резкость же перехода конкретного образа в метафорический подчас говорит, если использовать выражение Потебня, о резкой «противоположности вдохновенной мечты и отрезвляющей яви». Высокому, вдохновенному образу России, стране будущего, так же противоречит ее сегодняшняя «бедность» и «несовершенство» (выражения Гоголя), как поэтической грезе поэта противоречит вторгнувшаяся в нее дорожная брань Чичикова и фельдъегеря из «казенного экипажа».
Alexandra (Honoka) Поговорим поподробнее о метафорических смыслах образа дороги у Гоголя. Вначале о том смысле, который равнозначен жизненному пути человека.
Вообще-то это один из древнейших и самых распространенных образов. Можно без конца приводить поэтические примеры, в которых жизнь человека осмыслена как прохождение какого-то пути, дороги.
Вот стихотворение Е. Баратынского; оно так и называется: «Дорога жизни» (1825).
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.
Вдумаемся в этот образ. Жизнь человека уподобляется поэтом езде на перекладных; так назывались почтовые экипажи с лошадьми, менявшимися на почтовых станциях (корчмах). Возникает контраст начала путешествия и его конца — контраст, который тоже воспринимается метафорически: прожив жизнь, человек становится иным. Он расстается с мечтами и обольщениями юности, платит за жизненный опыт лучшими своими надеждами (их метафорическое обозначение — «прогоны»; кстати, стихотворение имело и другое название: «Прогоны жизни»).
Каким же словом можно кратко определить изменения, пережитые человеком? Словомразочарование; об этом говорит вся образность стихотворения, прежде всего - символика «снов золотых». Ведь «золотые сны» — это нечто высокое, вдохновенное, не выдерживающее соприкосновения с жестокой прозой.
Гоголь в «Мертвых душах» тоже развивает метафорический образ дороги как «жизни человека». Но при этом он находит свой оригинальный поворот образа.
Начало шестой главы. Рассказчик вспоминает о том, как в молодые годы его волновала встреча с любым незнакомым местом, с новыми людьми.
Теперь — иное. «Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть! »
Как и в стихотворении Баратынского, у Гоголя возникает контраст начала и конца, «прежде» и «теперь», контраст юности и зрелых лет человека. И вновь речь идет о невозвратных потерях: на «дороге жизни» утрачивается что-то очень важное, значительное. Но что именно?
Баратынский определенно говорил о несоответствии внешних впечатлений внутреннему настроению и ожиданиям, то есть о разочаровании. Гоголь говорит более осторожно - не о разочаровании, а об охлаждении («моему охлажденному взору...»). Встречи, которые раньше пробуждали любопытство, веселье, живое чувство, теперь оставляют холодным и безучастным.
Баратынский целиком на стороне своего героя, мечтателя с «золотыми снами», и против холодной действительности, развеявшей эти сны. У Гоголя «виноват» и сам «охлажденный», утративший непосредственность восприятия, свежесть ощущений.
Здесь, однако, вы можете напомнить, что Гоголь говорит в первом лице, то есть как бы о себе. Станет ли писатель обвинять сам себя? И зачем это ему нужно?
Но <…> мы уже знаем, рассказчик художественного произведения - понятие сложное. Не всегда рассказчик «равен» самому автору, не во всем совпадают их биографии, духовный облик, психологический склад.
И вот перед нами пример такого частичного несовпадения. Ведь сам-то автор «Мертвых душ» сохранил интерес к жизни: он по-прежнему жадно, с писательским любопытством всматривался в новые пявления, лица, события. Хотя, конечно, и Гоголь мог с горечью думать об утраченных надеждах и силах молодых лет, и он мог с глубоким чувством воскликнуть: «О моя юность! о моя свежесть! »
Alexandra (Honoka) Но главное даже не в этих совпадениях или несовпадениях. Главное в том, что и с помощью повествования от первого лица автор создает такой же существенный (хотя и эпизодический) образ, как и с помощью повествования в третьем лице. Словом, «я» начала шестой главы - это тоже своеобразный персонаж, и в нем Гоголю тоже важно очертить определенный психологический облик, выдвинуть на первый план определенные черты.
Изменение человека на «жизненной дороге» - вот что выдвинуто на первый план в этом персонаже. Причем такое изменение, которое не без его участия, в котором и он повинен.
Зачем Гоголю понадобился такой поворот образа? Все это связано с внутренней темой настоящей главы. Ведь это глава о Плюшкине, о тех поразительных изменениях, которые пришлось пережить ему.
И описав эти изменения, Гоголь в известном лирическом отступлении вновь прибегает к образу дороги: «Забирайте же с собою в путь из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом! »
Снова знакомая метафора — «дорога жизни», снова контраст начала и конца. Но суть изменения очерчена уж яснее ясного. Теперь это не разочарование, а опошление. Не утрата «снов золотых», а утрата элементарных «человеческих движений».
И не с горьким, холодным скепсисом наблюдает автор этот процесс, а с негодованием, смешанным с омерзением. Не в фаталистическое чувство - так было, так будет! - выливается это негодование, а в горячий призыв к молодым извлечь из чужого опыта уроки для своей жизни.
В одной из сохранившихся глав второго тома поэмы Чичиков говорит о себе: «Покривил, не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик».
Прямая дорога... Кривая дорога... Это тоже характерно гоголевские понятия. Гоголевский поворот в решении образа дороги.
Говорит все это о том же - об усилении этического момента. Ведь «прямая» или «косая дорога» - тоже образы метафорические. В одном случае подразумевается честная жизнь - по совести, по долгу; в другом - жизнь нечестная, подчиненная корыстным интересам.
Разумеется, то, что Чичиков прибегает к этим понятиям, не свидетельствует еще о его исправлении. По замыслу писателя, ему ещё предстоял длинный путь - и путь не такой уж «прямой»; еще много бесчестных поступков предстояло совершить ему. Да и говорит Чичиков о прямой и кривой дорогах пока больше в тоне самооправдания.
Но характерно уже то, что в сознании героя возникло это понятие, вернее, возникло различие двух дорог. Так Гоголь вводит в свой художественный мир важнейшие моральные координаты, с помощью которых он будет соотносить действительный и идеальный, желаемый путь персонажа.
Во время работы над «Мертвыми душами» образ прямой дороги приобрел такое значение, что писатель нередко прибегал к нему в своих письмах и беседах с друзьями.
Alexandra (Honoka) П. Анненков вспоминает о том, как в 1841 году он расставался с писателем в Риме: «...Гоголь проводил меня до дилижанса и на расставаньи сказал мне с неподдельным участием и лаской: "Прощайте, Жюль. Помните мои слова. До Неаполя вы сыщете легко дорогу; но надо отыскать дорогу поважнее, чтоб в жизни была дорога; их множество и стоит только выбрать..."» Легко понять, какую дорогу имел в виду Гоголь.
Писатель прибегал к понятию прямой дороги и тогда, когда он говорил не об одном человеке, но о народе или даже человечестве в целом.
В предпоследней главе «Мертвых душ» сказано: «Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь дос¬тигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь... И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыс¬лом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: "Где выход, где дорога? "»
Какая вдохновенная, яркая речь! Какая горькая, едкая ирония! Как она выстрадана писателем - за нею угадываются многолетние размышления над книгой истории, выношенный личный опыт.
Более важной темы трудно себе представить, ведь речь идет об «уклонении от истины» не одного человека, но всего человечества. И подразумеваются не только ошибки в мышлении, но извращения в исторических судьбах, во всем строе человеческих отношений. Но, с дугой стороны, из чего слагалось это общее уклонение от прямой дороги истории, как не из уклонений конкретных, определенных людей?
Образ дороги бесконечно расширяет диапазон поэмы - до произведения о судьбе всего народа, всего человечества.
Alexandra (Honoka) Есть в описании дороги в «Мертвых душах» и такие строки: «Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений! ..»
Не всегда, как мы знаем, повествователь, рассказчик биографически совпадает с самим писателем. Но в данном случае - такое совпадение налицо.
Это ведь сам Гоголь так глубоко любил дорогу, так самозабвенно «хватался» за нее в трудные дни своей жизни. Это Гоголь в 1829 году, после катастрофы своей первой книжки, полуподражательной поэмы «Ганц Кюхельгартен», после других неудач, в том числе, возможно, и
Любовной неудачи, «как погибающий» бросился в дорогу — в Любек, Травемюнде… «…Мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души...» - писал он матери, отправляясь в путь.
Это Гоголь после премьеры «Ревизора», уязвленный грубой бранью «неприятелей литературных, продажных талантов», вновь пускается в дальнюю дорогу, чтобы в спокойствии духа обдумать свои обязанности гражданина и писателя, чтобы творить «Мертвые души»...
«...Сколько родилось в тебе чудных замыслов...» - говорится о дороге в «Мертвых душах». И это вновь гоголевский опыт, существенная часть гоголевской биографии.
В 1839 году Гоголь писал одному из друзей из Вены: «Труд мой, который начал, не идет; а, чувствую, вещь может быть славная... Я на¬деюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге».
Ожидания не обманули Гоголя. Дорога много помогла выяснению замысла.
Встретившийся позднее с Гоголем молодой литератор Василий Панов рассказывал: «Хотя я в душе никогда не переставал быть убежденным, что Гоголь непременно пробудится с новыми силами, но, признаюсь, мне кажется - я уже забывал видеть в нем Гоголя, как -вдруг в одно утро, дней 10 тому назад, он меня угостил начало нового произведения! ..»
Это были не «Мертвые души». «Новое произведение» — драма запорожской истории, так и не завершенная, — драма, над которой Гоголь работал, отвлекаясь от своего главного труда.
В конце 1840 года, приготовляя к «совершенной очистке» первый том поэмы, Гоголь думает о ее «дальнейшем продолжении», о втором и третьем томах. «...Теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы». И вновь - надежды на путешествия, на дорогу. «...Лето, лето - это я уже испытал - мне непременно нужно провести в дороге».
Спустя несколько месяцев, в марте 1841 года, Гоголь пишет С. Т. Аксакову: «Создание чудное творится и совершается в душе моей… О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего». И вновь мечты о дороге, о дороге... «Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже говорил, восстановляют меня».
Через несколько дней: «Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу».
Вот как много означал для автора «Мертвых душ» образ дороги. Он не только пронизывает всю поэму, раскрывая свои различные грани, но и переходит из художественного произведения в реальную жизнь, чтобы затем возвратиться из реальности в мир вымысла.
Дорога - это художественный образ и часть гоголевской биографии.
Дорога - это источник перемен, жизни и подспорье в трудную минуту.
Дорога - это и способность к творчеству, и способность к познанию истинного («прямого») пути человека и всего человечества, и надежда на то, что такой путь удастся открыть современникам. Надежда, которую Гоголь страстно стремился удержать до конца жизни.
Yana (Maayan) вопрос по поэмее "мертвые души"
помогите пожалуйста срочноооо)
вопрос такой "Что герой(Чичиков)оставил на дороге? а что сумел сохранить???
Alexandra (Honoka) Яна, а что значит дорога в поэме "Мертвые души"? Что имеет Чичиков в начале пути? А каков он в конце пути?
Viktoria (Marquece) что сумел сохранить, —
проявление живого человеческого чувства.
Viktoria (Marquece) «Забирайте же с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге;
не подымете потом! »
- следовательно, то что он оставил
Alexandra (Honoka) "Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: всё равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, всё, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности, всё останавливало меня и поражало. Каменный ли, казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских, обывательских домиков, круглый ли, правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города, -- ничто не ускользало от свежего, тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии, на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо -- я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет, уже после супа, сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью, и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.
Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть! "
Н.В.Гоголь "Мертвые души"
Alexandra (Honoka) Всем известен апофеоз дороги в «Мертвых душах»: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! ... Боже! Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! » Критики России, пожалуй, усмотрят в этом пресловутую безбытность русского человека, кочевнический архетип, противостоящий методическому бытоустройству западных народов, умеющих скрупулезно возделывать микромир, вместо того, чтобы лихо ломать и покидать его. Но ведь не только в «степном архетипе» здесь дело. Душа человеческая, согласно христианскому учению, всегда странница, всегда в пути между временным земным своим пристанищем и небесной обителью. Ей тоже положено не застревать в повседневности, не абсолютизировать быт как главный предмет человеческих забот, а помнить о том, что превыше всякого быта. Душа — хранительница небесного огня оказывается временной пленницей здесь, на земле, где нет ей успокоения и удел ее — томление и тоска по высшему. Вот этот мотив тоскующей души всего ярче характеризует наше русское мироощущение с присущим ему острым чувством земной бесприютности.
Asya (Thwaite) Мне кажется, Гоголя разрывали противоречивые чувства - он страстно любил земную жизнь и ужасался её мимолетности. Он страстно хотел верить, что возможна некая идеальная жизнь, и ужасался той жизни, что видел вокруг себя.
И он бежал, бежал... от жизни и от себя.
Alexandra (Honoka) Герои Гоголя часто путешествуют и все они влюблены в дорогу. Хлестаков и Чичиков мчались по России в экипажах, лишь ненадолго останавливаясь на пути. Философ Хома Брут передвигался пешком, в бричке и верхом (на ведьме, равно как и сам служил для неё средством передвижения). Запорожские казаки проводили едва ли не всю жизнь в сёдлах. Одинокие художники и поручики мерили шагами петербургские проспекты. Акакий Акакиевич Башмачкин лишился горячо любимой шинели на пути домой. А помните это:
Чичиков только улыбался, слегка подлётывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? …Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят вёрсты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и сосен … летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, - только небо над головою, да лёгкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? (Гоголь Т.5: 225-226).
Вот так и сам Гоголь. Он очень любил дорогу: он бежал за границу после творческих провалов, он использовал дорогу как лекарство от хандры, от нервных потрясений, да от любой болезни. Были случаи, когда дорога спасала его от состояния, близкого к смерти. Дорога его вдохновляла, исцеляла и возрождала. Рассмотрев хотя бы краткую летопись этих побегов и исцелений, можно прийти к неожиданным выводам.
Вот эта летопись.
Бегство первое: Из Петербурга в Любек, 1829
Впервые Гоголь использовал дорогу как средство от горестей, какими его встретил Петербург в 1829 году. Горести были такие: жизнь в столице оказалась чрезвычайно дорогой; служебные места, какие можно было получить в Петербурге, не удовлетворяли его честолюбие, но даже и скромное место он долго не мог найти, несмотря на протекцию; он потерпел неудачу в отношениях с петербургской красавицей; его первая публикация получила разгром в литературных журналах; наконец, петербургский климат расстроил его хрупкое здоровье. И о чудо! Все эти трудности устранились разом и быстро, с помощью очень простого средства - короткое путешествие в Германию совершенно примирило Гоголя со всеми неприятностями петербургской жизни (Гоголь прибыл в Любек 13 августа 1829 года и 22 сентября уже вернулся в Петербург).
Константин Мочульский, в книге Духовный путь Гоголя (1934), объясняет первый побег Гоголя за границу в 1829 году провалом его первой публикации:
Неудачи с поисками службы заставляют Гоголя вспомнить о поэме Ганц Кюхельгартен, написанной ещё в 1827 году в Нежине. Он издаёт её на последние деньги под псевдонимом Алова. После жестокой расправы Московского телеграфа и Северной пчелы Гоголь «бросился со своим верным слугой Якимом по книжным лавкам, отбрал у книгопродавцев экземпляры, нанял номер в гостинице и сжёг все до единого» (Н.Кулиш. Записки о жизни Н.В. Гоголя. СПб. 1856).
И тут первой мыслью оскорблённого автора было: бежать. Воспользовавшись деньгами, присланными матерью для уплаты процентов в опекунский совет, Гоголь садится на корабль и уезжает в Любек (Мочульский 11).
Alexandra (Honoka) Сам Гоголь, в письме к матери от 24 июля 1829 года, мотивирует этот поступок иначе: он считал, что оставаясь в Петербурге нарушает волю Божию о служении человечеству в дальней стороне, и в наказание Господь послал ему такое жгучее чувство неудовлетворённой любви, что «нужно бежать от себя». Вот выдержки из письма:
Маминька! …Непонятная сила нудит и вместе отталкивает … излиться пред вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего; но как ужасно это наказание! … Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я мог сам по скользким ступеням подняться на высшую, откуда бы был в состоянии рассеевать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно <…> Наконец … какое ужасное наказание! Ядовитее и жесточе его для меня не было ничего в мире… Это божество, но облечённое слегка в человеческие страсти… Глаза, быстро пронзающие душу…их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков… Адская тоска с всевозможными муками кипела в груди моей. О какое жестокое состояние! … Всё в мире было для меня чуждо, жизнь и смерть равно несносны … Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь… В умилении я признал невидимую Десницу, пекущуюся обо мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне … Не ужасайтесь разлуки - я далеко не поеду: путь мой теперь лежит в Любек (Гоголь Т. 9: 29-31).
В том же письме проскальзывают честолюбивые мотивы отъезда: мало того, что должности в петербургских канцеляриях не приносят ни славы, ни дохода, но даже и эти должности недоступны Гоголю. И эти неудачи он тоже объясняет как проявление Божией воли на его отъезд из Петербурга:
Что за счастие дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованием, едва стающим держать себя прилично, и не иметь силы принесть на копейку добра человечеству … Несмотря на всё это, я решился служить здесь во что бы то ни стало, но Богу не было то угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи… Люди, без всякой протекции получали то, что я с помощью моих покровителей не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо мною промысл Божий? (Гоголь Т.9: 30).
В письме от 13 августа (н.ст.) того же года, уже из Любека, он называет ещё одну причину своей поездки - физический недуг, вызванный петербургским климатом:
Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня ехать именно в Любек. Во всё почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи…, и присудили пользоваться водами … в небольшом городке, в 18 верстах от Любека……(Гоголь Т.9: 35-36).
И вот, уже к 25 августа (н.ст.) всё того же года лечение принесло ощутимый результат: ни климат, ни красавицы, ни канцелярии Петербурга больше не пугают Гоголя, и он готов вернуться и занять там любую невидную должность, о чём радостно пишет из Любека:
Ради Бога, не беспокойтесь обо мне: я чувствую себя несравненно лучше и здоровее, климат здешний совершенно поправил меня; короче сказать, тело моё совершенно здорово… Лето в Петербурге уже прошло, и тамошний климат теперь уже не может быть для меня вреден… По крайней мере я теперь в силах занять в Петербурге предлагаемую должность и надеюсь, что новые занятиядадут силу душе моей быть равнодушнее и невнимательнее к мирским горечам (Гоголь Т.9: 37).
Alexandra (Honoka) Первый опыт исцеления бегством пригодился при новом серьёзном испытании - «провале» Ревизора в 1836 году. Никакого провала, как мы знаем, не было- наоборот, пьеса имела ошеломительный успех у избалованных и требовательных петербургских зрителей. Однако, Гоголю, горячо верившему тогда в свою миссию комического автора, искореняющего общественные пороки, нужно было другое - не аплодисменты и не «смех в зале», а всенародное покаяние и последующее за ним немедленное перерождение соотечественников, то есть что-то похожее на историю ниневитян под влиянием проповеди пророка Ионы. Этого не случилось, и оскорблённый Гоголь использовал уже испытанное средство - убежал за границу, не простившись ни с кем. Лечение сработало ещё быстрее и действеннее, чем в 1829 году.
Свидетельствует Константин Мочульский:
«Ревизор имел полный успех на сцене: общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора… ни в чём не было недостатка» (Кн. Петр А. Вяземский). Но Гоголь ничего не видит и не слышит: он потрясён «восстанием против него России» и спешит бежать за границу. Разбитый душой и телом, уезжает в чужие края «разгулять свою тоску». … Но не успел Гоголь ступить на немецкую землю, как душевное состояние его резко изменилось; всё вдруг стало ему понятно; в самой глубине мрака зажёгся свет, и душа наполнилась торжественной радостью. Недавняя немощь обратилась в «львиную силу», и в свете всего этого озарения ему открылся «непостижимо-изумительный смысл» всей его жизни (Мочульский 21).
Как и в случае первого побега, помимо очевидных причин отъезда, Гоголь упоминает и физические недомогания (в письме от 10 мая 1836 года из Санкт-Петербурга к Михаилу Петровичу Погодину (1800-1875):
Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, а мне тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь… Но Бог с ними. Я не оттого еду за границу, чтобы не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в здоровье (Гоголь Т. 9: 78)
Alexandra (Honoka) Гоголь уже знает, что быстро исцелится в поездке, и потому строит планы на будущее (в том же письме):
Мне хочется … рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать хорошенько труды будущие. Пора мне уже творить с бульшим размышлением…
Однако же «постоянное пребывание» он понимает по-своему:
Лето буду на водах, август месяц на Рейне, осень в Швейцарии, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть в Риме или Неаполе (Гоголь Т.9: 78).
Свидетельство о том, как быстро (всего только за месяц! ) и как значительно изменила состояние Гоголя поездка 1836 года, находим в его письме к Василию Андреевичу Жуковскому (1787-1852) из Гамбурга, от 28 июня (н.ст.):
Львиную силу чувствую я в душе своей… Пора, пора наконец заняться делом. О, какой непостижимо изумительный смысл имели все случаи и обстоятельства моей жизни! Как спасительны были для меня все неприятности и огорчения. … И нынешнее моё удаление из отечества, оно послано свыше, тем же великим Провидением, ниспославшим всё на воспитание моё. Это великий перелом, великая эпоха моей жизни (Гоголь Т.9: 80).
Обратим внимание на то, как хорошо Гоголь перенёс долгую пароходную качку, в отличие от других пассажиров, а также на то, как небрежно он пишет теперь о своём физическом недуге:
Наше плавание было самое несчастное: вместо четырёх дней, пароход шёл целые полторы недели, по причине бурного и дурного времени и беспрестанно портившейся пароходной машины. Один из пассажиров … умер. В Ахене дождусь совета Коппа, к которому послал описание моей болезни, впрочем, не слишком важной (Гоголь Т.9: 80).
Alexandra (Honoka) Знаменитый «венский кризис» 1840 года - странная болезнь, едва ли не смерть, и последовавшее за ней чудесное исцеление - многими расценивается как резкий перелом в мировоззрении Гоголя, приведший его к Богу. Например, Игорь Золотусский даже выбрал название Поворот в своей книге о Гоголе для главы, в которой речь идёт о венском кризисе (286). Однако, все предыдущие записи в нашей летописи гоголевских путешествий содержат достаточно его высказываний о Боге, Промысле и Провидении для того, чтобы не согласиться с мнением о неожиданном и коренном переломе в мировоззрении Гоголя, состоявшемся летом 1840 года. Но, конечно, нет никаких сомнений и в том, что он приобрёл тогда в Вене какой-то новый духовный опыт - вырос духовно, поднялся на следующую ступень духовной лестницы, как сказал бы он сам.
Игорь Золотусский полагает, что кризис развивался так:
…В середине июня прибыли в Вену. Здесь Гоголь решил остановиться, ему советовали попользоваться вновь открытыми водами. … Сначала воды освежили его и подняли дух. Он почувствовал лёгкость в теле, ему не писалось, а почти пелось… Но вот что-то сломалось в его настроении: то ли сказалось напряжение, испытанное за месяцы пребывания в России, то ли перегрузка в труде, то ли лечение подействовало. Слабое отклонение в здоровье - и всё пошло прахом. Страх включился в работу нервов. Страх болезненного расстройства, которое не позволит ему закончить его труд…, страх слечь окончательно, страх новой болезни, которую он раньше не испытывал… Горела в сухом жару голова, дышать было нечем, ни есть, ни спать он не мог, и страх, нарастая как ком, катил его под гору.
Случилось это в какие-нибудь дни - он вдруг оказался на дне глубокой ямы, сверзившись в неё с высоты «радости и сладкого трепета», испытанного при приезде в Вену… Сам воздух кажется ему неприятным - тень отца приходит в бессонные ночи, и он вспоминает, что … тот также предчувствовал свой конец и … уехал умирать из дому. Умереть вдали от России, в чужой земле… и быть погребену в чужой земле… Страх смерти соединяется со страхом остаться здесь навсегда. Никогда ещё смерть не подходила к Гоголю так близко, как на этот раз…
Венский кризис - более чем недуг, настигший Гоголя в дороге. Это та остановка в пути, которая выправляет весь путь. Полумёртвый он садится в дилижанс и с последними надеждами на перемену места просит везти его в Рим. … И, как всегда, дорога его спасает (Золотусский 286-289)
Tags: Что, такое, образ, дороги
образ дороги может кому то надо.






Мифопоэтика пространства и времени в произведениях В. П. Крапивина (статья) | Автор топика: Ksenia
Н. В. Мосеева
Екатеринбург, Уральский гос. университет
Одной из характерных черт литературы ХХ в. является мифологизм. Е. М. Мелетинский подчеркивает, что «…пафос мифологизма ХХ в. не столько в обнажении уродливости современного мира … сколько в выявлении неких неизменных, вечных начал, позитивных или негативных, просвечивающих сквозь поток эмпирического быта и исторических изменений»1, миф «объединяет и санкционирует существующий социальный и космический порядок в том его понимании, которое свойственно данной культуре»2.
Само понятие «мифологизм» может интерпретироваться двояко: это и миф архаический, включенный в ткань литературного произведения (Джойс, Булгаков), и авторский миф, или неомифология (Кафка, Маркес). И в том, и в другом случае мифологическое сознание автора эксплицируется в особой структуре текста. По мнению В. Руднева, «основными чертами этой структуры являются циклическое время, игра на стыке между иллюзией и реальностью, уподобление языка художественного текста мифологическому предязыку с его «многозначительным косноязычием», мифологические двойники, трикстеры-посредники, боги и герои»3.
В. Крапивин – писатель рубежа эпох, перестройки и смены политических режимов – чутко реагирует на то, что происходит вокруг. Изображая другие миры, он меньше всего стремится уйти от проблем современной действительности. Наоборот, это становится наиболее подходящим способом подчеркнуть и заострить их. Таким образом, если говорить о реальном времени, в котором создавались произведения Крапивина, то это своеобразный рубеж, перелом в жизни страны. 2000-й год – тоже мистическое число, некая граница эпох.
Что же касается места, то Урал, каменный пояс, – это пространственный рубеж, который также не мог не отразиться в творчестве писателя.
Можно предположить, что эти реальные пространственно-временные характеристики – вольно или невольно, сознательно или бессознательно – повлияли на произведения В. Крапивина. Понятия границы и перехода являются одними из основных в его творчестве, образуя некий маргинальный хронотоп, реализующийся во множестве различных образов.
Как известно, термин «хронотоп» впервые появляется в работах М. Бахтина. Он взят им из физики, из общей теории относительности Эйнштейна, и применен по отношению к литературе. Как и многие другие подобные термины, он имеет преимущественно матафорическое значение: пространство и время в художественном произведении не являются прямым отражением эйнштейновской теории. Однако, что касается произведений фантастических, особенно научно-фантастических, то здесь термин «хронотоп» может приобретать свое первоначальное значение. Причина этого, видимо, кроется в некоей рефлексии жанра, в соответствии материала исследовательскому методу: сама теория относительности, ее осмысление и вариации становятся темой многих фантастических произведений, в том числе произведений Крапивина.
Впрочем, определить жанр крапивинских произведений бывает не просто. Традиционно его творчество делят на «реалистическое» и «сказочное», «фантастическое». Правда, подчеркивается, что и реалистические произведения переполнены идеалистическими и романтическими мотивами. Однако если посмотреть на творчество писателя изнутри, а не с точки зрения каких-либо литературных направлений, то оно является глубоко целостным. Даже в произведениях, которые называют «реалистическими», есть некая мифологическая структура. Крапивина еще в советское время часто обвиняли в повторяемости. Но повторяемость является одной из черт именно мифологического мышления. Создается некий архетип, явленный в реальных текстах множеством своих вариаций и вариантов. Определение «крапивинский мальчик» уже указывает на существование этого архетипа. Главной чертой его является умение сопротивляться среде: в «реалистических» произведениях этой средой чаще всего является социальный уклад, навязанные сверху правила, придуманные взрослыми. Герой поступает по-своему, если внутренне уверен в своей правоте, несмотря ни на что, даже если все вокруг говорят, что он не прав («Журавленок и молнии»
Ksenia (Kube) «Колыбельная для брата», «Мальчик со шпагой» и др.). В произведениях, которые относят к фантастическим, герой также сопротивляется среде несмотря ни на что, в противовес любой логике и всем обстоятельствам, однако сама эта среда и само сопротивление часто представлены не только в социальном, но и в пространственно-временном, так сказать, природном плане.
В трилогии «В ночь Большого прилива» герой преодолевает рок, судьбу, сражаясь с канцлером, который, согласно предсказаниям, полученным из будущего, не может быть побежден. Однако вера в невозможное творит чудо. Мечта и надежда побеждают покорность и обреченность (и, в отличие от древнегреческого мифа об Эдипе, у Крапивина такой финал возможен и даже неизбежен). В повести «Застава на Якорном поле» для Ежики, «если приходилось выбирать дорогу», то «в таких случаях не было вопроса, в какую сторону идти. Мама говорила, что это у него с рождения запрограммировано: всегда поперек, всегда против часовой стрелки». Но в этом произведении есть и другое изображение этого «поперек»: «умение шагать через грани и бороться с темпоральным потоком», умение ставить защитное поле (Ежики – генератор силового поля) подчеркивает ту же черту характера. Наиболее ярко это явлено в двойственном финале повести, где Ежики пытается пробиться сквозь толщу пространства: «Он, не сбавляя скорости, рассекал воздух плечом. В нарастании свистящего шума и огней, в эти последние секунды к нему пришло ясное понимание: нет бокового туннеля. Есть один путь – прямой! Как у летящего в Космосе Яшки – с его надеждой на столкновение! Удариться – и стать звездой! Тогда пробьешься…». Таким образом, человеческие черты преобразуются в некие пространственно-временные формы, устойчивое переносное выражение «идти против течения» приобретает свой буквальный, первоначальный смысл, а образ – философскую глубину.
Именно особенности явления другого мира (иных пространств) во взаимодействии с «реальным» миром в произведениях Крапивина обычно дают основания отнести их к тому или иному жанру:
– это может быть мечта. Так, во вполне, казалось бы, реалистическом романе «Мальчик со шпагой» мечта о всадниках действительно воплощается в некое чудо, имеющее, впрочем, и реальное объяснение, построенное на ряде совпадений: «Собственно говоря, что такое чудо? Несколько редких случаев, совпавших друг с другом»;
– это может быть игра. В повести «Лето кончится не скоро» мальчишки на пустыре строят город, который потом живет своей собственной жизнью, восприняв некие закономерности Безлюдных пространств, на которых он стоит;
– фантазия героев может создавать целые миры: так, в повести «Дело о ртутной бомбе» Елька создает из картинок многомерную страну Нукаригва, настолько увлекшую его, что он сам способен перенестись в нее. Елька тонко чувствует взаимодействие, резонанс двух миров, неразрывную связь всего со всем;
– это может быть cон: в трилогии «В ночь Большого прилива» герой будто бы во сне впервые попадает на Валеркину планету. Впрочем, позднее сон становится реальнее действительной реальности. То же можно сказать и о соотношении сна и реальности в повести «Синий треугольник». Сон преобразует реальность до такой степени, что она сама становится похожей на сон. Сон является способом проникновения в другие миры, в другие пространства. Эти произведения Крапивина являются наиболее мистичными, однако в контексте всего творчества автора этот мистицизм, лишенный обычной логики и причинно-следственных связей, объясним и закономерен;
– это может быть и просто воспоминание: здесь полностью реализуется идея возвращения, характерная для мифа;
– даже обыкновенная реальность вовсе не является обыкновенной, авторское сознание мифологизирует ее: казалось бы, реально существующий город авторское сознание превращает в миф о городе в полном слухов, рассказов, толкований романе «Семь фунтов брамсельного ветра». За всеми событиями угадываются реальные события совсем недавнего прошлого, за описанием города – реальный пространственный ландшафт Екатеринбурга, затем, впрочем, плавно переходящий
Ksenia (Kube) в улицы Тюмени. Образ Тюмени (в некоторых произведениях она названа Туренью, ибо стоит на реке Тура) постоянно присутствует на страницах произведений Крапивина, не только реалистических, но и фантастических. Вообще, образ города – один из наиболее важных в крапивинском мире. Наиболее очевидными прототипами этих городов являются, как уже было сказано, Тюмень, Екатеринбург (Свердловск), Севастополь и, вероятно, Вильнюс. Часто город называется просто Городом, с большой буквы, и почти всегда является образом символическим.
Символическое начало вообще сильно в произведениях Крапивина, что также подчеркивает их мифологическую природу. Наиболее важными в общем контексте являются символы Дороги, Дома, Желтого окошка, также символизирующего дом и тех, кто тебя там ждет. Именно Путь, Дорога выражают соотношение пространства и времени во взаимодействии. Дорога – это всегда символ поиска, а «любое путешествие – всегда поиск Центра»4. Этим центром в книгах Крапивина является Дружба. Встреча тех, кто стремится друг к другу, – цель любой Дороги. Девиз Хранителей, отпечатанный на ребре монетки в 10 колосков («Застава на якорном поле»), гласит: «Не стой на пути, нет границ для свободных … или для дружных? » Свобода и дружба, таким образом, оказываются у Крапивина контекстуальными синонимами. Для его героев-пограничников не существует преград, чтобы пробиться друг к другу. Само слово «пограничник» в цикле о Великом Кристалле приобретает необычное с точки зрения языка значение: ведь пограничниками принято называть тех, кто охраняет границы, а здесь ими являются те, кто их преодолевает.
Особой символикой обладает география и геометрия пространства и времени: пять сторон света, вообще магия числа 5 в «Голубятне на желтой поляне», замкнутое в кольцо время, спираль как символ бесконечности развития (там же), перечеркнутая угловатая спираль как символ преодоленного времени в трилогии «В ночь Большого прилива», Большой Маятник, Солнечные часы («Крик петуха»), песочные часы («Выстрел с монитора»), Маятник Фуко («Стеклянные тайны Симки Зуйка»), Кольцо Мебиуса как отражение структуры Вселенной, Мебиус-Вектор как попытка перехода из одного пространства в другое (цикл о Великом Кристалле) и т. д.
Жанр волшебной сказки, с которым часто связывают произведения Крапивина, часто предстает у него в трансформированном виде на разных уровнях повествования. В. Я. Пропп в монографии «Исторические корни волшебной сказки» показал, что сказка восходит к обряду инициации (посвящение юноши в мужчины). Этот обряд «связан с резким изменением пространства: юноша уходит из семьи в особый лес и живет там в особом доме, где его подвергают различным испытаниям вплоть до символической смерти – по логике мифа, чтобы родиться вновь, нужно предварительно умереть… В волшебной сказке лес, избушка на курьих ножках – пограничные Пространства между жизнью и смертью – реликты Пространства обряда инициации»5.
В произведениях Крапивина сохранена внешняя, формальная структура сказки, но внутреннее содержание ее часто является неким «перевертышем». Главным миром (неким «золотым веком») является мир детства, и испытания, выпавшие на долю героя, в том числе смертельные, не уводят его из этого мира, а, наоборот, оставляют в нем. Отвага и мужество крапивинских героев никак не связаны со вступлением их во взрослый мир. Так, герой повести «Выстрел с монитора» Галиен Тукк на попытку похвалы «Вы настоящий мужчина» возражает: «Я мальчик, господин Биркенштакк… На мужчин я насмотрелся в эти дни, ну их к черту. Они и предать могут, и убить… беззащитного. Слава Хранителям, я еще ни в чем таком не замешан. И нечего меня сравнивать с мужчинами. Тоже мне похвала».
У Крапивина есть немало произведений, одним из главных героев которых является взрослый человек. Но взрослый мир скучен и неинтересен, даже бессмыслен. Приобщение взрослого героя к детскому миру, часто – превращение его в ребенка, и является чем-то вроде «инициации наоборот», возвращением героя в мир детства.
Другой «перевертыш» по отношению к жанру волшебной сказки состоит в интерпретации своего
Ksenia (Kube) и чужого пространства. Для детей-койво, обладающих способностью мгновенно преодолевать любые расстояния, просто-напросто нет чужого пространства (или чужого времени). Все грани Кристалла Мироздания являются для них своими.
Одной из важных категорий Крапивинской мифологии является понятие ^ Безлюдные пространства. Это пространства, оставленные людьми, как бы уставшие от человеческой деятельности, отдыхающие. Одной из важнейших особенностей их является то, что это – Пространства Добра, Зло не может проникнуть на эту территорию. С другой стороны, иногда они напоминают что-то вроде загробного мира: (там обитают Зонтик, Кей, а двоякое прочтение произведений не дает понять до конца, погибли эти герои или нет), но даже в этом случае эти пространства играют роль связующего звена между людьми, местом, где могут встретиться люди из разных миров.
Еще одним несоответствием, переворачивающим закономерности жанра волшебной сказки, является переход из одного пространства в другое. В. Я. Пропп выделяет несколько способов переправы как композиционного элемента волшебной сказки. Способы эти различны («переправа в образе животного», «зашивание в шкуру», полет на птице, переправа на коне, на корабле, по дереву, по лестнице, и т. д.), однако все они «идут от представлений о пути умершего в иной мир, а некоторые довольно точно отражают погребальные обряды»6. Подобные способы переправы в другие миры можно встретить и в произведениях Крапивина: в лодке и на птице («Дети синего фламинго»); особый образ – старый тополь в «Голубятне на желтой поляне», являющийся неким медиатором, который соединяет разные пространства. Лестница, приставленная к голубятне, и сама голубятня (некий вариант избушки на курьих ножках, такими же «избушками» являются скворечники в «Лужайках, где пляшут скворечники») являются маргинальными хронотопами: именно через голубятню Тик попадает на звездолет, в субпространство. Маргинальный хронотоп в произведениях Крапивина бессп*** связан со смертью, но, как и вышеперечисленные «перевертыши», с точностью до наоборот воспроизводит структуру подобных образов-символов в волшебной сказке. Образ Дороги, пути символизирует или поиск, или возвращение: в любом случае – встречу с теми, кого ты любишь. Здесь вектор полностью меняется: не из мира живых в мир мертвых, но наоборот, из мира мертвых в мир живых. Наиболее ярко это явлено в произведениях, где смерть и ее преодоление являются основными темами.
В межзвездной повести «Полосатый жираф Алик» астероиды, на которых живут после своей смерти герои и где исполняется любое их желание, являются будто бы воплощением представления о рае. Но тоска по дому, по Земле, по родным выше этих желаний, выше воображения и любой фантазии, потому что за настоящую фантазию тоже надо уметь отвечать: это некий созданный тобою мир. Так, в недавно вышедшем романе «Прохождение Венеры по диску солнца» ангел Вовка упрекает взрослого героя, пытающегося избавиться от собственной повести: «Если ты про кого-то придумал… вот так, будто они живые… значит, они есть на самом деле…». Так же и в «Полосатом жирафе Алике»: настоящая фантазия требует труда и усилий, но зато созданный таким образом Корабль выводит героев на Дорогу, сулящую надежду. Смысл образа Корабля становится другим, нежели в волшебной сказке: он помогает героям передвигаться в космосе, чтобы вернуться на Землю, какая бы она ни была, так как жестокость современной жизни, представленная в этой книге, не умаляет ценности жизни как таковой, но, наоборот, подчеркивает ее хрупкость и незащищенность человека в этом мире. Главное, что приводит героев туда, куда они стремятся, – это дружба. Подобные мотивы присутствуют в книгах «Лужайки, где пляшут скворечники» и «Лето кончится не скоро»: герои, прошедшие через смерть, стремятся вернуться назад. Особенность этих произведений – особый взгляд из другого мира на Землю и земную жизнь. В романе «Прохождение Венеры по диску солнца» ангел Вовка на своих дальних полях тоскует по единственному, что он любил в земной жизни, – по старому дому, и единственное желание, которое он может загадать во врем
Ksenia (Kube) во время прохождения Венеры по диску Солнца, – вернуться назад, домой.
В книге «Голубятня на желтой поляне» обряд превращения в ветерков также представлен через смерть (или имитацию смерти): «перейти или переплыть Реку, прочитать заклинание на Башне Ветров в Пустом Городе и спрыгнуть с высоты – тогда полетишь». Однако ветерки, несмотря на то, что они свободные, вечные, могут ничего не бояться, все равно хотят быть живыми, такими, как раньше. Именно земная жизнь, люди, которые тебя окружают, имеют наивысшую ценность в произведениях Крапивина, и поэтому мотивы возвращения и встречи являются в них такими значимыми.
Трансформации подвергаются и образы «чудесных помощников». В повести-сказке «Летчик для особых поручений» многочисленные помощники (кот, старый капитан и др.) сами могут стать главными героями других, своих, сказок; в них есть некая непримиримость с функцией только лишь помощника, они хотят большего: обещают Алеше множество приключений и приводят к осознанию, что «никакой дорогой, даже самой правильной, нельзя проходить мимо того, кому нужен друг». В «Заставе на Якорном поле» модель Вселенной маленький кристалл Яшка также во многом напоминает «чудесного помощника» волшебной сказки, однако и он пытается найти свой путь, свой смысл жизни, хочет, чтобы ему тоже помогли осуществить его мечту, и на возражения Ежики отвечает:
•
Я ведь все равно не могу быть твоим йхоло. Я живой…
•
Разве я говорил, что йхоло? Я думал… что друг…
•
А друзей в клетках не держат…
Амулеты и талисманы, называющиеся по разному в книгах Крапивина – йхоло, йоло, оло, играют важную роль в жизни героев, защищая их от всего плохого. С ними связана серия обрядов и поверий, что также подчеркивает мифологическую структуру произведений. Впрочем, обрядовое начало и различные правила связаны не только с талисманами. Мы уже упоминали обряд превращения в ветерков; в той же «Голубятне на желтой поляне» интересен с этой точки зрения рецепт изготовления искорки – крошечной модели галактики. Вообще само понятие модели, связывающей в пространстве – крошечное и бесконечное и во времени – мгновенное и вечное, является основой мифологического мышления. Все оказывается связанным со всем – это одна из главных черт любого мифа. В произведениях Крапивина, воздействуя на искорку, можно воздействовать на галактику; взорвать станцию «Мост» – значит разорвать кольцо времени («Голубятня на желтой поляне»); изменить ось Колеса – значит расширить территорию безлюдных пространств, территорию добра («Топот шахматных лошадок»); завязать узел на Синем Треугольнике – значит изменить структуру пространства («Синий Треугольник»); перевести стрелку часов назад – попасть в прошлое («В ночь Большого прилива»); повернуть застрявшее маленькое колесико в едином механизме мироздания – исправить ошибку судьбы, помочь конкретным людям («Колесо Перепелкина»); перевернуть хронометр Комингса – замкнуть время в кольцо («Выстрел с монитора»); сделать доброе дело – положить его на чашу весов (на чашу добра), спасти от гибели Шурку Полушкина («Лето кончится не скоро»).
Еще одной важной чертой мифологической структуры крапивинских книг является кочевание сюжетов из одного произведения в другое, их вариации и интерпретации. Часто создается впечатление о создании мифа о мифе, самосознания мифа: интерпретация одной легенды, интерпретация имени, даже его этимологии, кочуют из одного пространства в другое и одновременно из одной книги в другую. Вариативность как характеристика мифологического мышления соседствует с элементами двойничества и одновременно с отрицанием их. Многомерность пространства – времени порождает многовариантность судеб героев, что, в свою очередь, дает надежду на счастливый конец, несмотря на все трагические обстоятельства. Подобные эффекты создает относительность пространства и времени.
В романе-фантазии «Кораблики, или «Помоги мне в пути…» волею обстоятельств взрослый герой и герой-мальчик, являющиеся одним и тем же лицом, оказываются в одном времени. Однако полная их тождественность отрицается. Один и тот же человек
Ksenia (Kube) в разных обстоятельствах, в разных жизненных условиях, – это уже другой человек. Восприятие себя как другого – сложная задача, с которой взрослый герой не всегда справляется. Вариативность развития сюжета явлена и в романе «Лужайки, где пляшут скворечники». И в том, и в другом произведении актуализируются несколько линий развития событий (что является одной из примечательных черт литературы ХХ в. В этом смысле произведения Крапивина сравнимы, скажем, с новеллами Борхеса).
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что особенности организации пространства и времени в произведениях Крапивина таковы, что их можно рассматривать не только в рамках индивидуальной авторской мифологии, но и в религиозном аспекте. Пространство и время становятся категориями глубоко человечными, особым образом вписываясь в трактовку понятий Добра и Зла.
Само понятие перехода опять же не должно считаться самоценным, преодоление пространства-времени является не жаждой приключений, но стремлением встретиться с друзьями: «Разве мы кидаемся куда-то очертя голову? – размышляет герой повести «Крик Петуха» Витька Мохов: «Мы не так уж и рвемся в непонятные пространства, мы просто не знаем туда дороги. Наша дорога – всегда друг к другу. В этом закон прямого перехода…».
Крапивинские герои наделены особым восприятием действительности. Если (по Канту) априорными формами человеческого мышления являются пространство и время, то крапивинский герой имеет, так сказать, обостренное восприятие этих категорий, «многомерное мышление»: в, казалось бы, обыкновенных вещах он способен увидеть сказку, вход в иное измерение. Образ того, куда стремишься, существует не вовне, а в самом герое: «Зажмуриваешься, появляется в сознании тонкая зеленоватая нить, потом еще несколько – со светящимися узелками на перекрестьях. Их не видишь, а скорее чувствуешь. Потом возникает за светлым пятнышком одного узелка ощущение того места, куда ты стремишься…» («Крик петуха»). Особое значение приобретает образ вектора, точнее, Мебиус-вектора, – траектории, возникающей на стыке многомерных пространств, по которой герой стремится к тем, кого он любит.
Не менее интересной в этом плане является категория времени. Образы времени – Маятник Фуко, Большой Маятник, Солнечные часы, ось гироскопа – отражают незыблемость Вселенских законов по отношению к частным, земным, и определяют незыблемость нравственных законов в человеческой душе: «Хорошо, если в человеческой душе есть такой маятник. Который помогает всегда помнить о верном направлении», – говорит Симке Тетя Нора («Стеклянные тайны Симки Зуйка»).
Таким образом, пространство и время становятся в произведениях Крапивина категориями нравственными.
1 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 295.
2 Там же. С. 168.
3 Руднев В. М. Словарь культуры ХХ в. Ключевые понятие и тексты. М., 1997. С. 185.
4 Керлот Х.Э. Словарь символов. М., 1994. С. 428.
5 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 428.
6 Там же. С. 287.
Natalya (Calysta) *
Ответы Mail.Ru: Образ дороги в "Мертвых душах ...
Во-вторых, образ дороги выполняет функцию характеристики образов помещиков, которых посещает одного за другим Чичиков. Каждая его встреча с ...